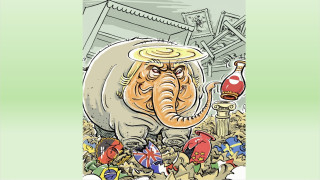Дональд Трамп завершает первый год своего второго президентства, которое началось 20 января 2025 года, резкими внешнеполитическими шагами, вызвавшими весьма неоднозначную реакцию в мире.
Публикация подготовлена медиапроектом «Страна и мир — Sakharov Review» (телеграм проекта — «Страна и мир»)
Список впечатляет:
- операция в Венесуэле, где американским специальным силам удалось задержать и вывезти в США лидера этой страны Николаса Мадуро и его супругу;
- новое подтверждение американской заинтересованности в приобретении Гренландии — если понадобится, с применением силы;
- захват в Карибском море и Атлантике нескольких танкеров, принадлежавших, по утверждению США, к российскому «теневому флоту», который нарушает санкционный режим;
- предупреждение о вмешательстве в ситуацию в Иране, где власти жестоко подавляют массовые протесты.
В более спокойные времена эти события могли бы составить мировую политическую повестку на целый год. В 2026-м они произошли за неполные две недели января.
Европейские тревоги
Из всего перечисленного Европу сильнее всего беспокоят новые, все более настойчивые заявления президента и других высокопоставленных американских представителей об интересе США к Гренландии. Словами Трампа: «Всюду вокруг [Гренландии] российские и китайские корабли… Я люблю китайский народ. Я люблю российский народ. Но я не хочу видеть их в качестве соседей в Гренландии… И кстати, НАТО стоило бы это понять».
Вне зависимости от того, какие аргументы выдвигает Вашингтон, в Европе считают, что попытка США, особенно силовая, овладеть самым большим островом планеты приведет к окончательному разрыву евроатлантического партнерства и фактическому концу НАТО. Проблема в том, что соотношение военного и политического веса США и их европейских пока-еще-союзников таково, что шансов на успех в противостоянии у Европы, не говоря уже об одной Дании, которой принадлежит Гренландия, просто нет. И даже если ситуация разрешится мирным путем, серьезный удар по доверию, 80 лет объединявшему США и Европу, уже нанесен.
Эти новые тревоги накладываются на прежние, связанные с идущей почти уже четыре года войной в Украине. Дипломатические усилия по ее прекращению к успеху пока не приводят. Позиции Европы и США при Трампе расходятся и по этому вопросу.
Но есть и еще одна, более серьезная проблема. Лихорадочные дипломатические усилия Вашингтона, Киева и европейских столиц пока напоминают свадьбу без невесты: позиция Кремля, настаивающего на переходе под контроль России всех оккупированных ею украинских территорий и некоторых не оккупированных, остается неизменной.
Настроения в европейских верхах явно мрачные. Если верить недавно опубликованной немецким журналом Spiegel записи переговоров европейских лидеров стран ЕС с Владимиром Зеленским, европейцы наперебой выражают недоверие американской политике в отношении Киева. (Эмманюэль Макрон: Украине «грозит большая опасность»; Фридрих Мерц: «Они (американцы) играют как с вами, так и с нами»; Александр Стубб: «Мы не должны оставлять Владимира [Зеленского] один на один с этими ребятами»). Одновременно в Европе нарастает тревога по поводу возможного прямого военного столкновения с Россией: министр обороны ФРГ Борис Писториус и генсек НАТО Марк Рютте открыто заявляют, что до такого конфликта остается не более пяти лет.
Проблемы Европы
Военный потенциал европейских союзников вполне сопоставим с российским, а по части параметров превосходит его. Впрочем, в некоторых отношениях Европа серьезно уступает — в частности, это касается собственных ударных беспилотников и средств защиты от БПЛА противника, что показал сентябрьский инцидент с вторжением российских дронов в воздушное пространство Польши и полеты дронов над военными базами в других европейских странах. Загвоздка в другом: и военные, и политические механизмы Евросоюза и НАТО совершенно не приспособлены к изменившейся глобальной ситуации, когда участие американцев в обеспечении безопасности Европы поставлено под вопрос (чему свидетельство — недавно опубликованная новая Национальная стратегия безопасности США).
Проблемы лежат сразу в нескольких плоскостях. Одна — чисто техническая: за без малого 80 лет евроатлантического партнерства европейская система безопасности оказалась настолько тесно связана с американским присутствием, что никакой политический «развод» не может сопровождаться одномоментным разрывом военно-стратегических связей. Это имело бы тяжелые последствия для обеих сторон. Именно для обеих, поскольку, например, закрытие американских военных баз в Европе заметно осложнило бы логистические схемы для американских военных на Ближнем Востоке.
Но дело не только в присутствии на территории ЕС десятков тысяч военнослужащих США и общей системе военного планирования стран НАТО. Достаточно сказать, что должность командующего силами альянса в Европе традиционно занимает американский генерал (сейчас – Алексус Гринкевич). Европейские армии активно используют американскую военную технику, а попытки стать самодостаточными в этом отношении рассчитаны на много лет вперед. Да, Германия и Франция работают над проектом нового истребителя шестого поколения, но полная замена им нынешних самолетов Rafale и Eurofighter, а также частичная — американских F-35 планируется не раньше 2040 года. Европа может попасть в ситуацию, схожую с той, в которой оказались 30 лет назад страны Восточной Европы — бывшие члены Организации Варшавского договора. Их армии были оснащены оружием и техникой советского образца, перевооружение на самом деле не закончилось до сих пор.
Другая, политическая часть проблем связана с самой структурой Европейского Союза. Если Россию можно назвать постимперией, чья трансформация в современное национальное государство по разным причинам не удалась, что и привело к нынешнему неоимперскому рецидиву, то Евросоюз — нечто вроде недоимперии. Она десятилетиями не способна решить проблему баланса сил и полномочий между наднациональным «имперским» центром (Брюсселем) и национальными государствами, входящими в состав ЕС.
Единая Европа?
Некоторые аналитики полагают, что в мире, переживающем нечто вроде ренессанса великодержавной Realpolitik, единственным возможным способом выживания для Европы остается максимальная интеграция. Это тоже, по сути, имперский путь, пишет украинский политолог Антон Шеховцов:
Сегодня Европа стоит на перепутье: либо она мобилизует свои внутренние экономические, политические и интеллектуальные силы, чтобы обеспечить свое будущее, либо она раздробляется, а отдельные части континента сдают элементы своего суверенитета внешним силам.
Вряд ли первая из обозначенных в цитате опций осуществима на сто процентов. Экономическая интеграция в ЕС шагнула весьма далеко. Что же касается по-настоящему глубокой политической интеграции, то для нее отсутствуют некоторые важные предпосылки.
Во-первых, в сегодняшнем ЕС недостаточно развито то, что можно назвать объединяющим этосом — набор общих представлений, идей, мифов, на которых базируется разделяемая большинством населения самоидентификация с данным пространством, оформленным политически и институционально. Такой этос существует в рамках каждой отдельно взятой страны, входящей в ЕС, но на общеевропейском уровне он сильно размыт. Как показывают исследования, даже там, где самоидентификация с Европой сильна — например, в Германии или Италии, где ее разделяют до 70% населения, — она заметно уступает национальному самосознанию и находится по отношению к нему как бы на заднем плане, в качестве «вторичной» идентичности.
Во-вторых, эта двойственность находит выражение в характере европейских институтов и их отношениях с институтами государств-членов Евросоюза. Важнейшие решения в рамках ЕС традиционно принимаются консенсусом, что дает возможность любому из государств-членов заблокировать их принятие. (Похожим образом было устроено голосование в сейме Речи Посполитой с его правилом liberum veto, что имело катастрофические последствия).
В ЕС годами ведется дискуссия, не перейти ли к одобрению решений квалифицированным большинством: чаще всего предлагается формула «2/3 стран-членов, объединяющих не менее 2/3 населения ЕС». Согласия по этому поводу, однако, до сих пор нет. Поэтому, например, чтобы утвердить некоторые из планов помощи Украине, вызвавшие сопротивление прокремлевских правительств Венгрии и Словакии, Брюссель несколько раз прибегал к уловкам, проводя эти решения «по другой статье», — чтобы для их принятия не требовался консенсус. Но так можно поступать не всегда.
В-третьих, определенные ограничения на процесс согласования решений накладывает сам демократический характер нынешней Европы. Жан-Клоду Юнкеру, главе Еврокомиссии в 2014–2019 годах, приписывают откровенное высказывание:
Все мы знаем, что надо делать. Мы только не знаем, как выиграть выборы потом, когда это будет сделано.
Геополитическое одиночество Европы
Регулярные выборы в сочетании с переменчивостью настроений избирателей означают, что разрабатывать долговременную стратегию очень сложно. В Евросоюзе ситуация усугубляется многоэтажной конструкцией политических институтов, где полномочия довольно сложно распределены между европейскими и национальными органами, что делает процесс согласования и обсуждения важнейших шагов особенно затяжным и сложным.
Это общеизвестный минус демократии (служащий продолжением ее плюсов) в сравнении с авторитарными режимами, где система принятия решений обычно работает более оперативно из-за отсутствия необходимости убеждать оппозицию в правильности этих решений, несуществующего общественного контроля, жесткой вертикали власти и т. д.
Если нынешний ЕС и напоминает какую-либо империю прошлого, то скорее всего Священную Римскую империю, которая, по замечанию Вольтера, не была «ни священной, ни римской, ни империей». Впрочем, гений Просвещения был несправедлив: Священная Римская империя была весьма гибким механизмом согласования интересов множества составлявших ее субъектов, группировок внутри правящих элит, а также различных социальных слоев и групп. Этот механизм, увы, не был в достаточной мере приспособлен к резким переменам. Именно поэтому Священная Римская империя потерпела окончательный крах в начале XIX века, когда Французская революция и сменившая ее диктатура Наполеона пришли с альтернативным, более динамичным и авторитарным (хоть и недолговечным) общеевропейским проектом.
Подобными же недостатками страдает и Европейский Союз, созданный фактически как инструмент поддержания вечного мира за счет вначале экономической, а затем и политической интеграции стран, неоднократно воевавших между собой.
Недостатки эти, однако, не выглядят фатальными. Реакция Европы на российское вторжение в Украину, как на союзном, так и на национальном уровне (достаточно вспомнить Zeitenwende, означавшее коренной поворот во внешней и оборонной политике Германии) была куда более быстрой и четкой, чем можно было бы ожидать – но наверняка менее решительной, чем хотелось бы Киеву. Согласование действий европейских союзников в сфере обороны, безопасности и экономической политики (санкционный режим против РФ) оказалось не столь уж невыполнимой задачей.
Но противостоять Путину проще, чем вступить в конфликт с Трампом. В его первое президентство Европа свыклась с тем, что новый американский лидер взял на себя роль строгого учителя, а то и армейского сержанта, жестко добивающегося выполнения своих требований, в первую очередь относительно роста военных расходов европейских союзников по НАТО. Но на втором президентском сроке Трамп пошел гораздо дальше и добивается своих целей (Гренландия, торговые пошлины, перенос основного бремени помощи Украине на плечи Европы) без оглядки на интересы европейских стран.
Правящие элиты Европы с трудом свыкаются с мыслью, что в мире «нового империализма» они могут остаться в геополитическом одиночестве. Теоретически у европейцев есть инструменты давления на Вашингтон: новый пересмотр торговых соглашений, изменение условий присутствия американских технологических гигантов (Google, Meta, Amazon и др.) на рынке ЕС и даже экономическая и дипломатическая игра с Китаем, который в определенной степени может быть использован как противовес США. Но как отмечает Financial Times, сильнее, чем прикидки возможных стратегических последствий, европейских лидеров связывает психологическая неуверенность: неспособность представить себе самостоятельные действия — без поддержки или даже вопреки желаниям США, — причем эти действия касались бы не только Украины и сферы безопасности в целом, но и технологий и экономики.
Дополнительным фактором, способствующим этой неуверенности, остается неоднородность политического ландшафта стран ЕС и НАТО, рост влияния евроскептических и националистических сил, занимающих все более заметное место на европейской сцене.
Однако их значение не стоит преувеличивать.
Во-первых, даже наиболее популярные из этих партий, вроде «Альтернативы для Германии» или французского Национального объединения, по-прежнему находятся в своих странах в относительной политической изоляции.
Во-вторых, оказавшись у власти, национал-популисты нередко дрейфуют в более умеренную сторону, близкую официальной позиции Брюсселя. Так, итальянское правительство Джорджи Мелони, состоящее из партий, долгое время пользовавшихся репутацией дружественных Кремлю, занимает вполне четкую проукраинскую позицию. А вернувшийся к власти премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, вопреки своему обещанию, звучавшему в ходе предвыборной кампании, заявил, что Прага не откажется от «Чешской инициативы по поставке боеприпасов Украине». И даже ветеран дипломатических войн с Брюсселем Виктор Орбан никогда не переходит черту, способную отделить Венгрию от финансовых инъекций ЕС.
Европа не страдает от недостатка экономической мощи или военного потенциала. В дефиците для нее сейчас другие вещи: время и решительность.