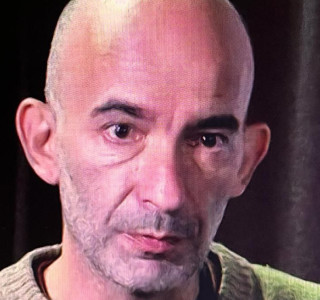Современное российское общество несет на себе груз неосмысленных, непережитых и разнообразных травм, полученных несколькими поколениями подряд. Травмы были подавлены и законсервированы, но в последнее время их разбередили и использовали для построения новой мобилизационной модели, основанной на реваншизме, милитаризме и изоляции.
Чтобы выйти из травмированного состояния, мало сменить политический режим и наладить работу социальных институтов. Совершенно необходима долгая и болезненная коллективная терапия, признание ошибок и скорбь по неоплаканным жертвам. Пока общество не готово эту работу даже начать.
Публикация подготовлена медиапроектом «Страна и мир — Sakharov Review» (телеграм проекта — «Страна и мир»)
Российское общество больно. У одних эта тема вызывает насмешки и сарказм, другие откликаются на нее злыми мемами. Слова о болезни общества — не метафора, ситуация более чем серьезна. Болезнь вызвана не только свежими травмами, но и с давними, унаследованными от родителей и предков.
ХХ век стал временем страшных испытаний для всего человечества: две мировые войны, тоталитарные режимы, геноцид, репрессии, революции, принудительные депортации. Россия пережила и европейские катаклизмы, и собственные трагедии, которые продолжают влиять на общество и по сей день.
Травма — не только само болезненное событие, но и его последствия для большой группы людей, нередко удаленные во времени. Травмирующей может быть даже память о травме — взгляд на нее из настоящего. Травма может менять деятельность различных отделов головного мозга, в том числе отвечающих за регуляцию аффекта, познавательную деятельность, установление близких отношений.
Посттравматические расстройства неизбежны, а они нарушают механизмы адаптации людей. Но если травмирование продолжается, как в российском случае, то посттравматическое состояние не наступает: люди живут в ситуации беспрерывного насилия: одно негативное воздействие сменяется другим. Можно ли диагностировать подобное состояние у целого народа? И может ли травма передаваться через поколения?
Коллективные травмы
Травма ломает защитные ресурсы человеческой психики, разрушает способность человека обеспечить минимальную безопасность и внутреннюю интеграцию, вызывает чувства страха и беспомощности. Антропогенные катастрофы, такие, как войны и репрессии, «нацелены на аннигиляцию историко-социального существования человека» (Вернер Болебер, бывший президент Немецкой психоаналитической ассоциации). Как ощущает себя в такой ситуации «голый человек», лишившийся социально-культурной оболочки и защит, лучше всего описано в лагерной прозе Варлама Шаламова.
Отдельный человек не может осмыслить, пережить и «приручить» свою травму, пока ее не «легализовало» государство, пока не возник общественный дискурс, что и почему произошло с людьми, у которых государство отняло свободу и жизнь. Если общество не признает нанесенную травму, пережитый опыт продолжает отделять травмированных от «нормальных» людей, обрекает их на молчание (так жили выжившие в ГУЛАГе в период от смерти Сталина до горбачевской перестройки).
Коллективная травма — понятие не медицинское, а скорее моральное. Признавая травму коллективной, мы оцениваем событие как-то, что не должно повториться. Коллективной травмой может стать массовая гибель людей за короткий срок (войны, репрессии, депортации, геноцид, голод) или жестокое преследование по признакам религии, национальности, расы, класса. Событий такого рода в российской и советской истории последних веков было очень много.
Травма сохраняется в воспоминаниях и легко передаётся потомкам, из поколения в поколение. Как выяснилось через несколько десятилетий после Холокоста, дети переживших Катастрофу нередко адаптированы к жизни хуже своих родителей. Пережитая родителями трагедия может вести к депрессии и другим расстройствам, к поведенческим и эмоциональным искажениям. Они, в свою очередь, серьезно деформируют психику их детей.
Часть коллективных травм психологи называют «легитимными»: о них можно говорить, в их честь установлены памятные даты и построены мемориальные комплексы, их посещение сопровождается ритуалами памяти. Напротив, «нелегитимные» травмы не считаются таковыми с точки зрения господствующего дискурса и замалчиваются.
Травма может быть сугубо моральной — так бывает, когда человек нарушил свои этические принципы, поступил не по совести, участвовал, видел или не смог предотвратить событие, противное его ценностям и принципам. Таких ситуаций у человека может быть тем больше, чем в более авторитарном обществе он живет.
Последствия моральной травмы могут показаться более легкими, чем от физических травм, но приятного в них мало: повторяющиеся чувства вины, стыда, гнева, печали, беспокойства, отвращения, раздражения, убеждение в своей недостойности, саморазрушающее поведение, потеря доверия к людям и избегание близости, снижение интереса к личной и профессиональной жизни, — вот далеко не полный перечень посттравматических эмоций и чувств, препятствующих счастливой жизни после травмы.
Проявления коллективной травмы в обществе разнообразны и зависят от тяжести последствий, от времени, прошедшего с момента события, от способности общества пережить травму через литературу, искусство, изучение истории, ритуалы переживания горя. Травма может влиять на ментальные привычки и культурные навыки людей: историческая память о голоде может сформировать традицию делать большие запасы. Травма отражается и на межличностных отношениях: опыт доносов и политических преследований снижает уровень доверия в обществе на многие поколения.
Обилие травматических эпизодов и их продолжительность создали в России травмоцентричную культуру. Невозможность работать со своей болью вылилась, в частности, в культ победы (мы — народ-победитель). Громадная роль победы над фашизмом в российской культуре («это святое») — результат действий травмированных людей, не проработавших свою травму. Изнутри травмоцентричной культуры внешний мир кажется опасным, возникает ментальность «осажденной крепости».
В XXI веке Кремль очень удачно (для себя) использовал непроработанность травм у россиян, чтобы построить диктатуру, ведущую войны.
Новая норма
Российское общество и государство долго сопротивлялись проработке прошлого и избежало тех неприятных процедур, через которые прошли страны Восточной Европы и Балтии. Сила и длительность травмирующих воздействий и обстоятельств были таковы, что проработка травмы казалась не столько ненужной, сколько невозможной. «Годы тирании производят изменения в характере нации», — писала психоаналитик Наталья Кигай. Идеологическое давление в СССР, а затем и циничный постсоветский политический режим блокировали формирование культуры, в которой можно интегрировать и прорабатывать социальные травмы.
Кумулятивная, повторно полученная травма делает психику менее резистентной (как повторный удар по больному месту). В обществе, где травматизации подверглось несколько поколений, утрачиваются представления о здоровом функционировании, их место занимают вялость и конформизм. Тогда поведение, сформировавшееся в ответ на травму, воспринимается следующими поколениями как психологическая норма: другой они просто не знают.
Травматический опыт предыдущих поколений никогда не бывает полностью известен последующим. Те, кто пережил сталинский террор в раннем детстве, могут не знать, как боялись стука в дверь их родители. Влияние неосознаваемой и непроработанной травмы на психику следующих поколений психологи описывают через метафору находящегося в ней «инородного «мертвого объекта», который завладевает психикой человека. Это слепая зона, невыразимое, которое вызывает у человека странные поступки, переживания и соматические реакции.
Дети и внуки переживших травму сталкиваются с проблемами, но не всегда знают, какими событиями в прошлом они вызваны. Травмы прошлого — как вампиры: не умирают вместе с теми, кого повредили, а выбирают новый объект для продолжения своей «жизни». Потомки становятся «контейнером», куда их родители неосознанно помещают свои непроработанные страдания, травмы, непризнанную вину и ответственность. Непроработанная травма становится частью психической жизни потомков. Но сам чужой опыт и травма остаются недоступными для осознания, не встраиваются в воспоминания и идентичность потомков.
Поскольку временная дистанция, отделяющая новое поколение от травмы предыдущего, уже велика, вызванные ею проблемы потомков (чувство вины, страхи, тревожность и т.д) могут не содержать прямых указателей на саму травму. Но травма определяет поведение человека долгие годы спустя.
Взрослая пациентка рассказывает, как в детстве мать вела себя с ней холодно, жестоко и глумливо. Потом выясняется, что, по рассказам матери, так вели себя с ее отцом (дедом пациентки) чекисты, когда пришли раскулачивать и расстреливать его на глазах всей семьи. Та детская травма определила характер матери и повлияла на характер дочери.
Из этого состояния травмированности российского населения во многом проистекает и война, развязанная Россией против Украины. Это отнюдь не оправдывает действий руководства страны и тех, кто участвует в агрессии, и не снимает с них (с нас) ответственности, но многое объясняет.
Не будучи в состоянии проделать болезненную и мучительную работу со своей травмой, человек, пытаясь избавиться от разъедающих его изнутри чувств, выплескивает насилие на другого. Страх и унижение одного человека оборачиваются жестокостью и насилием над другими. Невозможность проработать травму привела к росту агрессии, национализма, желания твердой руки, отмечал Лев Гудков из «Левада-центра». Травматический опыт вытеснен и забыт, но определил распространение цинизма, апатии и агрессии.
Нередко важная черта травмы — неготовность признать ее наличие и работать с ней, отрицание того, что давешний опыт и переживания влияют на сегодняшние события.
Поэтому признание травмы — важный шаг к выздоровлению.
Трансмиссия травмы между поколениями
Опыт, пережитый предыдущими поколениями, может оказывать серьезное влияние на психическое здоровье, мироощущение и образ жизни потомков. Первой в России это исследовала в начале 1990-х известный психолог Юлия Гиппенрейтер, описавшая поломанные судьбы репрессированных и их детей. Внутри семей передавались страхи, тревожность, атмосфера тайны (о репрессиях надо было молчать, чтобы не навлечь повторные репрессии), безразличие («копать корни было не принято, вдруг докопаешься до чего-нибудь не того»), боязнь проявить инициативу, страх близости, уровень психологического благополучия в них был значительно ниже.
Подчас, замечает психотерапевт Андрей Гронский, травматичный опыт родителей транслируется в виде открытых вербальных установок: «Будь как все», «Не высовывайся», «Не спорь с начальством», «Не говори то, что думаешь», «Не вызывай к себе лишнего интереса». Потомки переживших сталинский террор отмечают у себя страхи и повышенный контроль за своим поведением. Гиппенрейтер исследовала третье поколение (внучек), а Гронский — четвертое (правнуков репрессированных при Сталине).
Другие исследования добавляют к частым реакциям потомков репрессированных злость, раздражительность, гипертрофированный испуг, трудности с концентрацией, избегание переживаний, связанных с возможным воздействием травмы, ощущение, что человек многое в жизни делает по принуждению. Чем меньше потомки чувствуют связь своей жизни с семейной историей, чем меньше в семье обсуждаются эти события, тем ярче у них проявляется вся эта симптоматика. Передаваемые родителями поведенческие максимы происходят как из советского периода, когда вольнодумцев и тех, кто отличался от «коллектива», сурово наказывали, так и из более старых крестьянских установок: община не поощряла тех, кто выделялся из основной массы.
Старшее поколение передает опыт младшему при помощи невербальных сигналов — через эмоциональное состояние, модели поведения, образ жизни, поведенческие реакции (стыд, гнев, раздражение, страх и т. д.). В этом случае передача опыта (в том числе травматического) между поколениями происходит скрыто, закамуфлировано, неосознанно для обеих сторон. Ребенок не знает историю травматического события, но перенимает связанные с ним отчаяние, боль, горе, стыд, тревогу. Вместе с травмой передаются стратегии выживания, способы преодоления стресса, психологические защиты от негативных воздействий.
Трансгенерационная (межпоколенческая) передача травмы основана на том, что люди, пережившие травматический опыт (репрессии, войны, геноцид), своими переживаниями (в том числе непроговариваемыми) создают вокруг себя эмоциональный фон, в который вовлекают тех, кто находится рядом. Эту эмоциональную атмосферу трудно формализовать и измерить, но попадая в то или иное сообщество, люди ее довольно быстро ощущают.
Опыт политических репрессий в СССР выработал у тех, кто его пережил, страх перед обсуждением политических тем, критикой власти, участием в публичных протестах. Это сформировало и у их детей убеждение, что политикой интересоваться опасно. Следующим поколениям это убеждение передалось в сокращенной, редуцированной форме: политика неинтересна, это удел жуликов и воров, от нас (и других «простых людей») ничего не зависит. Вот откуда происходит аполитичность большинства россиян в ХХ веке, их уверенность, что надо заниматься «своими делами» (личная жизнь, семья, работа), а политику оставить политикам!
Невозможность повлиять на ход реформ в 1990-х годах лишь подкрепила это убеждение.
По мере удаления от травматических событий (войны, рабство, репрессии) сформированные ими установки слабеют. Но действуют они весьма долго, даже если потомки живут в нетравматичной среде. «Мир опасен, люди злонамеренны», «мы ничего не можем изменить», «все обманывают, доверяют лишь дураки: доверие надо заслужить», «не надо строить далеких планов» (выжить — вот проблема, о перспективе подумаем потом), «лучше не будет (хорошо там, где нас нет)», «делать запасы», «тяжело трудиться», «не сдаваться», «не выбрасывать пищу», — такие правила поведения передавались из поколения в поколение семьями тех, кто пережил войну, голод и репрессии.
В этом ряду нет предписаний быть честным, придерживаться своих принципов, проявлять сострадание, альтруизм и эмпатию. «Я очень ценю тепло отношений // В эпоху большой нелюбви», — пел в 1990-х Андрей Макаревич иронически, эта песня говорит о встрече с проституткой. Усвоенные предписания формируют постоянную готовность к угрозам, осадную ментальность («Россия в кольце врагов»), понижают цену жизни («зачем ходить к врачам по всякой ерунде») — таковы доминирующие социальные установки. Многие из них сформированы не советским временем, а более ранними периодами, говорит известный психолог и психотерапевт Анна Варга.
Одно из следствий поголовной травмированности россиян — повышенная терпимость к насилию, отмечает в другом выступлении Варга:
Мы абсолютно травмированная нация, и не занимаемся проживанием травмы, которую пережили наши предки и отчасти мы сами. Масштабы травматизации чудовищные.
Подвержены ей потомки и жертв, и палачей. Толерантность к насилию, восприятие себя как жертвы свойственны всем, включая психологов, говорит она. Отсюда огромное количество неосознаваемого насилия в обществе: каждый в любой момент может стать насильником или жертвой. В обществе нет нормы порицания насилия и сочувствия к его жертвам.
Посттоталитарные установки, связанные с выученной беспомощностью в социально-политической сфере, ослабевают от поколения к поколению, и передаваемые родителями жизненные установки становятся более просоциальными. Но новые травмы снова отбрасывают общество назад.
Травмы передаются между поколениями и у других народов. Последствия африканской работорговли, продолжавшейся более 400 лет (XVI–XIX века), жертвами которой стали более 15 млн человек, до сих пор прослеживаются в пониженном уровне доверия к людям у потомков рабов. Давно ликвидированная работорговля воздействует на наших современников через культурные нормы, убеждения и ценности, доказал историк Натан Нанн.
На большие временные расстояния передаются не только травмы. Свободные города-государства в северной и центральной Италии (Венеция, Флоренция, Генуя, Болонья, Верона, Милан, Виченца, Падуя, Парма и др.), для которых в средние века было характерно городское самоуправление и развитая гражданская культура, и сейчас характеризуются повышенным уровнем социального капитала и доверия.
Через поколения передается и ненависть. Население городов, находящихся внутри бывшей «черты оседлости» в Российской империи (там можно было селиться евреям), до сих пор хуже относится к рыночной экономике. Экономист Екатерина Журавская и ее коллеги объясняют это антисемитизмом и частыми погромами: среди евреев в то время было сравнительно много коммерсантов.
Крепостное бесправие и травма крепостничества
Коллективные травмы российского общества — сложное и комплексное явление. Травмированность общества вызвана не каким-то одним событием, как Холокост, а множеством событий и процессов на протяжении долгого времени. Точкой отсчета в нем многие историки, да и психологи, включая цитированную выше Наталью Кигай, считают крепостное рабство. Именно здесь находятся корни исконной, многовековой травмы, которая заложила фундаментальные основы отношений в российском обществе, выработала культурные привычки хозяина и раба. Его сегодняшние отголоски — недостаток социального альтруизма и пониженное этическое чувство у элиты, а у населения — страх власти, несамостоятельность, низкий уровень доверия, апатия.
Опыт крепостничества в российской истории — не просто исторический факт, а глубокая психологическая рана, последствия которой ощущаются до сих пор. Крепостное право как форма отношений между землевладельцами и крестьянами существовало во множестве европейских стран. Но в отличие от них, у российских крепостных крестьян не сохранялись даже личные права, а суды не были на их стороне.
Крепостничество в России приняло форму рабства. Это была крайняя форма зависимости одной группы людей, большей по численности, от другой, намного меньшей, но опирающейся на силу государства. Крепостное рабство было не просто экономическим институтом, а целой системой, которая на протяжении нескольких столетий охватывала большинство населения, влияя на его поведенческие модели и привычки.
«Крещеную собственность» можно было передать по наследству, продать, подарить, проиграть в карты, заложить в банке, лишить имущества, подвергнуть любым наказаниям (но без нанесения увечий), передать в другую семью, женить или запретить замужество, сдать в рекруты (военная служба длилась 25 лет). Нередким делом было сожительство помещика с несколькими крестьянками. На протяжении нескольких поколений крепостные крестьяне были лишены фундаментального права — распоряжаться собой, своей жизнью.
Травмирующее воздействие крепостничества включает в себя привычку к бесправию и тотальной зависимости, травму «вертикального насилия» и культ силы, травму «не-собственника». Эта травма не только не преодолена, но даже не высказана.
Как следствие, в массовом сознании веками формировалось убеждение, что человек — не хозяин своей судьбы. Его жизнь зависит от произвола барина, чиновника, царя. Это породило пассивность, выученную беспомощность, привычку переносить унижения и очень высокую адаптивность — привычку приспосабливаться даже к самым неблагоприятным обстоятельствам, а не менять их. В невозможности защитить себя от самодурства и произвола помещика — корни правового нигилизма.
Из-за отсутствия механизмов правового противостояния произволу одним из немногих методов сопротивления для крестьян было бегство на окраины империи.
А это стало серьезным ресурсом для ее расширения. Крестьяне бежали от крепостничества туда, где государственная власть и помещики не могли до них дотянуться («с Дону выдачи нет» — похожей была и колонизация Сибири и Центральной Азии). Позже на эти территории приходило государство, снова «обращая беглых в свое владычество» (Светлана Лурье, доктор культурологии) — не разоряя самовольные поселения, а облагая их податями. Так и сложилась русская модель земледельческой колонизации. Переселенцы тайком, на свой страх и риск бежали с родины, — и оказываясь в авангарде ее расширения.
Другой способ сопротивления, бунт, был самым рискованным и опасным, и после победы властей заканчивался «закручиванием гаек». Это сформировало убежденность, что русский бунт — бессмысленный и беспощадный (крылатое выражение прапорщика Петра Гринева; Александр Пушкин, «Капитанская дочка»), сопротивление бесполезно, а лучший ответ на несвободу, насилие и издевательства — «стиснуть зубы и терпеть».
Немного литературоведения
Полностью абзац, из которого взята знаменитая фраза Гринева, выглядит так:
Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно… Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!
Таким образом, по Гриневу, бессмысленность и беспощадность русского бунта не только в действиях бунтовщиков, но и в действиях власти, разорявшей население вконец.
Защитной реакцией на постоянное насилие стала устойчивая ассоциация силы и жестокости с властью, мудростью, заботой, патернализм. Во многом отсюда и двоемыслие, когда внешнее подчинение силе сочетается со скрытой ненавистью к угнетателю («фига в кармане»).
На этой основе сформировалось противоречивое мировоззренческое сочетание: полное недоверие к любой власти (чиновники заинтересованы только в набивании карманов, до простого народа им нет дела) и одновременно — вера в «справедливого царя-батюшку», которому виднее, который остановит произвол чиновников и помещиков, накажет «плохих бояр» и даст народу волю. Когда-нибудь.
Отмена крепостного права обернулась новой травмой, так как не принесла реального освобождения. Условия реформы были кабальными для крестьянства, что создали убежденность: «настоящую волю» украли бояре. Крестьяне не получили землю, но были уверены, что «воли без земли не бывает». Крестьянская реформа породила недоверие к любым реформам, исходящим от властей.
Защитой от насилия и одновременно травмирующим фактором стало укрепление общинной психологии. Община, помогавшая крестьянам выжить в случае пожара, болезней и прочих неприятностей, была основана на уравнительном переделе земли и упрощала для государства контроль над крестьянами, сбор налогов и натуральных повинностей. В общине крестьяне связаны круговой порукой, она работала как инструмент принуждения по отношению к своим же членам. Выход из общины и вход в нее (свобода передвижения) были возможны только с санкции общины.
Община подавляла индивидуальность и личную ответственность, под ее влиянием вырабатывался коллективизм, основанный не на добровольном сотрудничестве, а на взаимной зависимости и контроле. Выделиться, стать богаче и умнее означало пойти против мира, стать изгоем, навлечь на себя зависть и гнев односельчан.
Российский крестьянин веками не был полноправным хозяином земли и не мог распоряжаться результатами своего труда. Совершенно неоткуда было возникнуть традициям уважения к частной собственности, предпринимательству, праву.
Даже после освобождения крестьян землей владела община. Крестьяне получали узкие полоски земли, нередко удаленные друг от друга. Земля для обработки распределялась и перераспределялась общиной раз в несколько лет. Отсутствие земли в собственности не создавало стимулов для труда, сбережения, увеличения прибыли, для правильной организации севооборота — все равно землю передадут другому. Отсюда низкие урожаи и слабая укорененность трудовой этики.
Привычка к такой организации труда вела к уравниловке и ненависти к зажиточным. Не давая крестьянам землю и оставляя за собой орудия производства, помещики после реформы 1861 года стремились держать крестьян в экономической зависимости. Это не способствовало привычке к самостоятельности, инициативности, опоре на свои силы.
Трансформация травмы
Со временем крепостническая травма не исчезла. Последующие режимы унаследовали тот же подход. Советская власть воспроизвела крепостническую модель. Новой формой прикрепления к земле стали колхозы (у колхозников не было паспортов до 1970-х годов), что сохранило ограничение свободы передвижения.
Тотальный контроль государства за жизнью человека, включая частную, подавление инакомыслия в СССР только усилились в сравнении с царскими временами, воспроизведя и укрепляя модель «вертикального насилия». Отрицание частной собственности, подавление инициативы были продолжением общинной психологии в государственном масштабе. Те, кто пытался проявить инициативу, становились объектами государственных репрессий.
Когда в 1990-х годах у людей появилась возможность свободного действия, у них не было культурных и психологических оснований, чтобы брать на себя ответственность. В обществе быстро возродилось желание «сильной руки». Отсутствие опыта социальной и политической самостоятельности сделало людей легкой добычей популистов, пообещавших вернуть порядок и защиту сверху.
Крепостное право и его травматичная отмена заложили в российском обществе архетипы, устойчивые по сей день. Люди не могут привыкнуть к тому, что они сами могут быть хозяевами своей судьбы, не верят, что от их личных усилий что-то зависит. Они с подозрением относятся к свободе, которая ассоциируется скорее с хаосом и опасностью, чем с возможностями.
В обществе силен запрос на «сильного лидера», «доброго царя», который восстановит вертикаль, наведет порядок и будет справедливо управлять сверху. А элиты всегда думают, что «народ не готов». Риторические стратегииоправдания крепостного рабства в первой половине XIX веке весьма напоминают аргументацию российских реформаторов 1990-х, которые убеждали самих себя и сторонников, что реформы обязательно должны быть «непопулярными», то есть в краткосрочной перспективе приводить не к приобретениям, а к потерям в благосостоянии населения.
Крепостничество — не просто история. Это живая травма, которая продолжает влиять на политические предпочтения и коллективную психологию современной России. Это первый, и возможно, самый глубокий слой травматичного клубка, который мы начинаем распутывать.
В проработке травмы нужно будет опираться на здоровые силы, несмотря ни на что противостоявшие многовековому государственному насилию.
Как писала Гиппенрейтер, многие семьи вырабатывали ресурсы, которые позволяли им пережить трагедию и функционировать после нее. Мужество, душевная стойкость, взаимопомощь в критических ситуациях, неприятие социального зла, нравственные ценности помогали находить смысл жизни и после понесенных утрат.
Все эти ценности потребуются и тем, кто будет работать с последствиями травмы после путинской диктатуры.